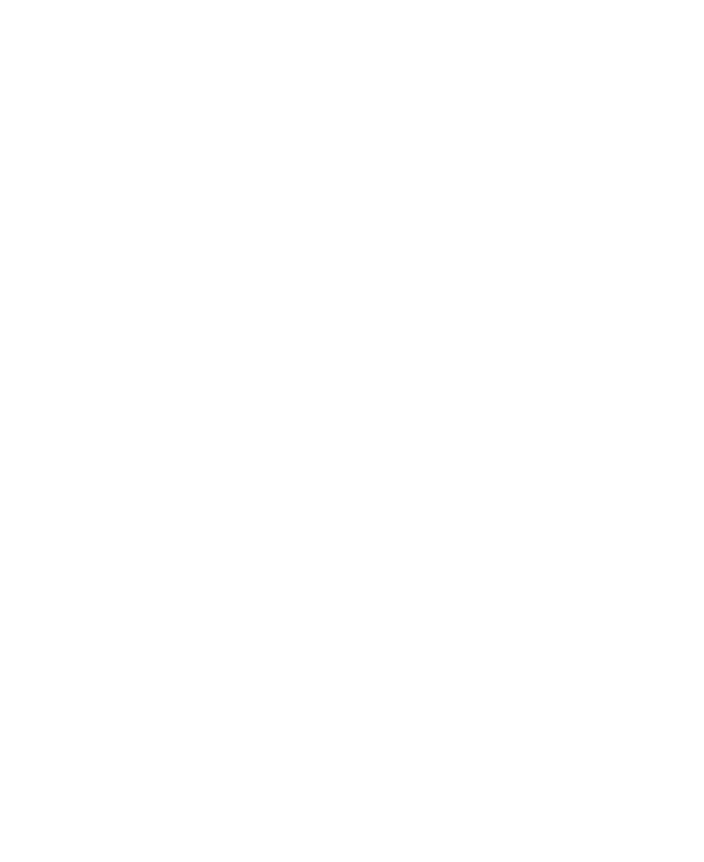История медицины
Свод лекций
Лекция 9
МЕДИЦИНА В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В XV–XVII ВЕКАХ
Формирование Московского, или Русского, государства началось после изгнания Золотой Орды в 1480 г., в результате собирания русских земель вокруг Великого Московского княжества в период правления Ивана III (1462–1505).
На рубеже XV–XVI вв. Московское государство по уровню политического развития не уступало европейским государствам. К концу XVI в. в стране было 220 городов, а население составляло 7 млн человек.
В XVI в. Московское государство продолжало политику объединения русских земель. В 1510 г. к Москве были присоединены Псков, в 1514 – Смоленск, в 1521 – Рязань, в 1552–1557 гг. – Казань и Астрахань, в 1578 – Великий Новгород.
Социальной верхушкой общества являлись князья, бояре и дворяне. Представители этих сословий владели землей, которая обеспечивала их благосостояние. Дворяне находились на одну ступеньку социальной лестницы ниже, чем князья и бояре. Это связано с отличиями в характере их землевладения. Князья и бояре владели вотчинами, в то время как дворяне – поместьями. В существовании такой формы земле владения, как поместье, нашел отражение извечный конфликт князей и землевладельцев. Князья нуждались в землевладельцах как в военной силе. Боярские роды некогда получили свои вотчины не только в награду за службу, но и в качестве постоянного источника дохода, который позволил им выставить в княжеское войско снаряженный и вооруженный отряд.
В рамках духовного сословия выделялось черное и белое духовенство. Черное духовенство – это лица, принявшие постриг, то есть монахи. Они добровольно удалялись от мира с его соблазнами и сосре дотачивались на молитве за всеобщее спасение. Белое духовенство, в отличие от черного, не давало монашеских обетов и оставалось в миру, чтобы общаться с прихожанами и наставлять их на путь истинной веры. Церковь не только владела землями и имуществом, но и занималась покупкой и продажей участков, торговлей товарами монастырского производства. Она также сохраняла свое влияние на умы людей, диктуя им правила повседневной жизни.
Основная часть горожан представляла собой посадское население. Посадом изначально называлась часть города, находившаяся за пределами крепостных стен, где располагались торжища и слободы ремесленников. В первую очередь посадское население состояло из ремесленников и купцов. Русское купечество в XVI столетии переживало определенный упадок, во многом связанный с процессом роста Московского государства, в ходе которого к нему присоединялись удельные княжества. Купечество на этих территориях, как правило, обладало большой властью и авторитетом. Московские князья видели в этом угрозу для себя и не стеснялись прибегать к так называемому выводу – переселению купцов в другие города. Такая мера разрывала их устоявшиеся торговые и деловые связи и тем самым лишала могущества.
Ремесленники предпочитали селиться городскими слободами – так назывались районы компактного проживания представителей одной профессии, совместно выплачивавших государственный налог – тягло. Например, существовали кузнецкие слободы, кожевенные, гончарные и многие другие. Средства, полученные от сборов тягла, шли на государственные расходы: ведение войн и поддержание обороноспособности, строительство дорог и мостов и др. Тягло могло также принимать вид выполнения трудовых повинностей в пользу государства.
Большинство населения страны составляли крестьяне. Крестьянство делилось на три основные категории: черносошные крестьяне, жившие на государственных землях и выплачивавшие тягло, монастырские крестьяне, а также частновладельческие крестьяне, жившие в вотчинах и поместьях. Последние две категории выполняли повинности в пользу владельцев земли: монастырей, князей, бояр, дворян. Существовало три вида крестьянских повинностей: барщина, натуральный оброк и денежный оброк.
К концу XV в. уже не первое столетие шла активная крестьянская колонизация восточных окраин русских земель – крестьяне бежали туда из традиционных русских земель от груза повинностей, тяжести монголо-татарского ига, в поисках лучшей жизни и по другим причинам. В итоге бояре и дворяне могли остаться практически без крестьян и лишиться доходов, а князья потерять войска.
Землевладельцы стремились всеми силами помешать переселению крестьян, не ограниченному государственным законодательством. Например, они принуждали крестьян заключать договоры, прикреплявшие их к земле, и покупали уже закабаленных крестьян, по сути, рабов. Важным этапом в процессе закрепощения крестьян стало принятие Иваном III в 1497 г. Судебника – свода законов, среди прочего ограничившего возможность крестьян сменить место жительства неделей до и неделей после осеннего Юрьева дня – церковного праздника, отмечавшегося 26 ноября (по старому стилю). Уходя от землевладельца, крестьянин должен был выплатить ему так называемое пожилое – плату за годы, прожитые на его земле. Судебник 1497 г. вынудил крестьян, не желавших мириться с ограничением свободы, бежать в основном на юг, на берега Днепра и Дона, где было много незаселенных плодородных земель в достаточной удаленности от центра Русского государства. Ряды беглецов пополнялись и за счет посадского населения, спасавшегося от обременительного тягла, преступников, пускавшихся в бега в надежде избежать правосудия. Таким образом, южные земли заселялись наиболее активными и в каком-то смысле отчаянными представителями русского населения. Это сообщество, отличавшееся смешанным происхождением и воинственностью, называлось казачеством, а его представители – казаками.
Экономическое развитие Московского государства с централизованной политической властью шло быстрыми темпами. Находясь на перекрестке путей в силу своего выгодного географического положения, Москва являлась перевалочным пунктом всего товарного движения того времени: оживился внутренний рынок, расширились торговые связи с Востоком и Западом. Централизация управления и превращение в многонациональное государство привели к значительному развитию культуры. Так, в 1485 г. было завершено строительство ансамбля Московского Кремля. Построены Троице-Сергиева и Киево-Печерская лавры, Донской, Симонов, Новодевичий монастыри. При монастырях началось летописание. В 1563 г. в Москве Иваном Федоровым открыта первая типография.
Рост и укрепление Московского государства позволили в XVI–XVII вв. провести ряд преобразований и нововведений, оказавших большое прогрессивное влияние на развитие медицины в России.
Для крестьянского населения России единственным способом поддержания здоровья было народное врачевание. Опыт народной медицины сохранился как в устной традиции, так и в многочисленных травниках и зелейниках, дошедших до наших дней76. Яркий пример отражения этой темы – «Повесть о Петре и Февронии Муромских», памятник древнерусской агиографической литературы середины XVI в., созданный писателем и публицистом Ермолаем-Еразмом на основе муромских устных преданий. Предание гласит, что в городе Муроме правил князь Павел. Когда его не было дома, к его жене начал прилетать летающий огненный змей «на блуд». Для других людей он имел облик князя Павла. Однажды княгиня во всем призналась своему мужу, и тот велел выспросить у змея, от чего ему смерть может прийти. Змей поведал, что смерть его будет «от Петрова плеча, от Агрикова меча». у князя был брат по имени Петр, который решил убить змея, но не знал, где взять Агриков меч. Однажды в церкви женского Воздвиженского монастыря ребенок показал ему Агриков меч, который лежал в щели между камней алтарной стены. Князь взял меч и зашел в покои брата – тот был на месте. Потом Петр заглянул к его жене и увидел, что брат уже сидит у нее. Павел объяснил удивленному брату, что змей умеет принимать любой облик. Тогда Петр поднял Агриков меч и убил змея. Умирая, змей принял свое обличье, его ядовитая кровь забрызгала Петра, и он заболел проказой. Никто из лекарей не мог справиться с ней. Во сне князю открылось, что его может исцелить дочь «древолазца» (бортника, добывавшего дикий мед) Феврония, крестьянка из села Ласково в Рязанской земле. Княжеский гонец разыскал Февронию. И она в качестве платы за лечение пожелала, чтобы князь женился на ней после исцеления. Князь принял это условие. Феврония исцелила князя, однако он не сдержал слова, поскольку Феврония была простолюдинкой. Предусмотрительная Феврония намеренно не залечила один струп на теле князя, и из-за этого болезнь вскоре возобновилась. Но Феврония вновь вылечила Петра, и тот женился на ней.
Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню из простолюдинок, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». Князь сделал свой выбор: вместе с Февронией на двух кораблях отплыл по Оке. В Муроме же поднялась смута, многие стали покушаться на освободившийся престол, начались убийства. Тогда бояре попросили Петра с женой вернуться. Княжеская чета возвратилась в Муром, и в дальнейшем Феврония сумела заслужить любовь горожан. В преклонных летах приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, они умолили Бога, чтобы им умереть в одно время, и завещали похоронить себя в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине. Скончались они в один день и час. Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе77.
Медицинскую помощь, наряду с врачами, приглашенными из-за границы, и выпускниками лекарских школ, оказывали в основном различные народные врачеватели: зелейники, рудометы (кровопуски), зубоволоки, костоправы, камнесечцы, повивальные бабки, мастера очных, кильных дел и др. Зубоволоки умели накладывать на «червоточину» в зубах пломбы, укрепляли зубы проволочными «шинами», для этого у них имелись «пеликаны», «ключи» (козья ножка), «дандагма» (разновидность средневековой одонтагры). Мед и другие дары природы, разнообразные травы и ягоды долгие годы служили основой для лекарств. Вместе с тем в лечебниках данного периода все большее значение стало уделяться «резанию», то есть хирургии.
Развитие торговли, обеспечивающей экономический рост, имело и оборотную сторону. Заморские купцы привозили со своим товаром возбудителей заразных болезней. Только в период XIV–XV вв. в летописях упоминается о 12 эпидемиях, которые привели к ужасающим по своим масштабам потерям и разрушениям. Легкость их возникновения, огромная смертность и бессилие медицины поражали умы людей и усиливали суеверия.
Частые эпидемии «повальных» болезней привели к введению предохранительных мер. Сначала это выражалось в изоляции больных и оцеплении неблагополучных мест. Умерших погребали «в тех же дворах, в которых кто умрет, во всем платье и на чем кто умрет». Общение с зачумленными домами прекращалось, их жителей кормили с улицы через ворота. Когда эпидемия охватывала весь город, на дорогах, ведущих к нему, организовывали заставы; в лесах устраивали завалы. Для уничтожения заразы в домах применяли давние народные средства: вымораживание, сжигание и окуривание дымом, проветривание, мытье. Царские указы (XVI–XVII вв.) также были направлены, прежде всего, на изоляцию зараженных мест и воспрепятствование продвижению заразы по стране, особенно к столичному городу, для спасения государя и войска.
За период с 1654 по 1665 г. было подписано более 10 специальных царских указов «о предосторожности от морового поветрия», а во время чумы 1654–1655 гг. повелевалось устанавливать на дорогах заставы и засеки, через которые никого не разрешалось пропускать под страхом смертной казни, невзирая на чины и звания. Здесь же, на заставах, сжигали на кострах зараженные предметы, а деньги промывали в уксусе. Письма по пути их следования многократно переписывали, а подлинники сжигали.
В XVI в. умерших во время мора стали хоронить за чертой города. Так, в Новгороде во время чумы 1572 г. погребение в городе было запрещено; тела умерших было велено уносить на 6 верст вниз по течению реки Волхов и хоронить там вдали от жилых мест и питьевых источников. В начале XVII в., когда в Москве разразилась холера, царь Борис Годунов (1551–1605) повелел выделять для захоронения умерших специальных людей, «кому те трупы забирати». Священникам под страхом смертной казни запрещалось причащать умирающих. Лекарей к заразным не допускали. Если же кто-либо из них случайно посещал «прилипчивого» больного, он был обязан известить об этом самого государя и сидеть дома «впредь до царского разрешения».
Во время мора прекращались ввоз и вывоз всех товаров, а также всякая работа на полях. Это приводило к неурожаям и голоду, который всегда шел вслед за эпидемией. Появлялись цинга и другие болезни, вызывая новую волну смертности.
Медицина того времени все еще была бессильна перед эпидемиями, и тем большее значение имели первые государственные карантинные мероприятия, которые начали вводиться в Московском государстве78.
В 1534 г. появилась первая лечебная книга «Благопрохладный вертоград», в которой содержались описания трав, камней в алфавитном порядке, а под каждым описанием находились стихи с указанием болезни, от которой они излечивают.
С целью обеспечения лекарственным сырьем – в первую очередь царя и его двора – у стен Кремля был заложен сад и первый огород с аптекарскими травами. В 1581 г. для обслуживания царского двора в Кремле появилась первая государственная аптека, а в 1673 г. – вторая. В указе было сказано: «На Новом гостином дворе – где приказ Большого приходу, очистить палаты, а в тех палатах указал Великий государь построить аптеку для продажи всяких лекарств всяких чинов людям»79. Под влиянием войн, экономических и общеполитических факторов появилась необходимость создания государственной организации медицинского дела, что и было проведено в конце XVI столетия, в правление Ивана IV, а также продолжено в середине XVII в., в царствование царя Алексея Михайловича.
Начало государственной организации здравоохранения в Московском государстве было положено открытием Аптекарской палаты (1520), спустя столетие переименованной в Аптекарский приказ (1620), который просуществовал в течение всего XVII в.
Аптекарский приказ как высшее государственное медицинское учреждение осуществлял руководство всем медицинским и аптечным делом в России и обладал широкими полномочиями: ведал мероприятиями по охране страны от эпидемических болезней, приглашением из-за границы врачей и аптекарей, подготовкой отечественных медицинских кадров, закупкой медикаментов и оборудования, сбором лекарственных трав, призрением больных. В ведении Аптекарского приказа находилось также обеспечение войск лекарствами, назначение в войска медиков, организация лечения больных и раненых80. Аптекарский приказ контролировал сбор и разведение лекарственных растений, закупку их за границей. Аптекарский приказ был сложным по структуре светским учреждением. В его состав входили, прежде всего, медицинский персонал (доктора, лекари, цирюльники, лекарские ученики, аптекари, алхимисты), а также ряд других лиц, не связанных с медициной (дьяки, подьячие, переводчики, сторожа и др.).
Заведовал Аптекарским приказом особый дьяк, а высший надзор осуществлял знатный боярин, приближенный к царю.
С XIV в. монастыри, становясь крепостями, стали открывать больницы с уставными положениями, заимствованными из Византии. Крупные монастыри сооружали больничные палаты, в которых оказывалась помощь феодалам, духовенству, военным и простым людям.
С образованием Московского государства, в особенности с начала XVI в., наметился прогресс в развитии врачебного дела. Иван Грозный ценил медицину, хотя не был чужд суеверий. Первым врачом при нем состоял Арнольд Лензей из Италии. После смерти Лензея в сопровождении цирюльников и аптекарей из Англии прибыл Роберт Якоби. В 1581 г. аптекарь Джеймс Френчем привез в Москву не только разные лекарственные вещества растительного и иного происхождения, но и амулеты, перстни, трости, которые якобы могли предохранять от порчи, язвы и др.
Стоглавый собор 1551 г., созванный Иваном IV для обсуждения внутреннего устройства страны, затронул также и вопросы «здравости, быта, семьи, общественного призрения». В решениях «Стоглава» записано: «Да повелит благочестивый царь всех прокаженных и состарившихся описати по всем градам, опричь здравых строев. До в коемуждом граде устроити богадельни мужские и женские, и тех прокаженных и престарившихся и не могущих нигде главы преклонити устроити в богадельнех пищею и одеждою…»
Несмотря на рост отечественных медицинских кадров, квалифицированных специалистов явно не хватало. Врачи, поступавшие на службу в Аптекарский приказ, приносили своего рода присягу, а также от них требовалось строгое выполнение врачебной клятвы, добросовестное отношение к своим обязанностям. Сохранились «клятвенные записи» чинов Аптекарского приказа, в которых те обязывались: «…ему, государю служить и прямити и добра хотели по всем вправду и до своей смерть безо всякие хитрости, а лиха мне ему, государю моему… не хотети никокова ни мыслити, ни думати никоторыми делы и …зелья лихова и коренья не давати… и во всем об их государском здравии радети… всем сердцем и душою своею безо всякие хитрости сколько смогу… пособите по сей клятве». Как видим, медицинскую помощь они оказывали в основном царской семье, но в отдельных случаях помощь получали служилые люди и их семьи, для чего надо было написать челобитную царю с просьбой о помощи.
Во второй половине XVI в. на русской службе находилось уже «немало врачей из Западной Европы»81. В XV1 в. приток иностранных врачей в Россию еще более увеличился. И в Аптекарском приказе они играли заметную роль, при этом труд врачей-иностранцев оплачивался значительно лучше, чем русских врачей. О бедственном положении отечественных врачевателей говорится в челобитной 1662 г. полкового лекаря Федора Васильева «с товарыщи»: «Служили мы, холопи твои, тебе, великому государю, в Обтекарском приказе многое время, и на всех твоих государевых службах и з бояры и воеводы по вся годы были, всякую нужу и бедность и голод терпели, и твоих государевых ратных раненых людей лечили; и теми твоими государевыми дальними службами лекарей иноземцев ослуживаем; а им, лекарем иноземцом, идет твое государево жалованье годовое и корм большой, а нам, бедным, твоего государева жалованья толко на год по пяти рублев, да корму на месяц по два рубли… И мы, бедные, перед всеми чинами оскорблены: корм небольшой, а хлеба нам, бедным, ничево не давано – з женишками и з детишки помираем голодной смертью»82.
Как показывают материалы Аптекарского приказа, врачи-иностранцы, кроме денежного жалования и «кормовых окладов», получали еще вино, мед, муку, калачи «с хлебенного дворца», сено для лошадей. Им оплачивался проезд в Россию и обратно, при отъезде давались богатые подарки (как правило, деньги и соболя), чтобы они могли у себя на родине рассказать «про государеву милость».
Из медицинских документов того периода наибольший интерес представляют докторские «сказки», которые отражали уровень медицинских знаний в России в XVII в. В «сказках» есть сведения об освидетельствовании больных и раненых, способах лечения болезней, описывались характер ранений, методы лечения ран, давался перечень целебных трав и минеральных веществ.
По «сказкам» можно судить об известных в XVII столетии заболеваниях: ангине, роже, опухоли, «падучей», «сухотке» (туберкулез), водянке, «каменной» и «лихорадочной» болезнях, «почечуе» (геморрой), «веснице» (цинга). Затрудняясь с постановкой диагноза, врачи отмечали лишь симптомы болезней: «распух», «ноги опухли», «лом в ногах», «в голове лом» и др.
Имеются данные и о развитии хирургии в XVII столетии. Известно, например, что хирургические методы применялась даже при лечении глазных болезней, что указывает на ее довольно высокий уровень. Сведения об этом приводятся в «сказке» «лекаря и окулиста, очного мастера Ягана Тириха Шартмана, который в 1677 г. в отчете о своей работе писал: «Приехав де он в Московское государство, излечил на Москве: боярина князя Якова Никитича Одоевского дочь: не видела очми, а ныне видит; боярина ж князь Юрия Алексеевича Долгорукого у жены ево… глаза вылечил, а испорчены де были от нашатырю, что пускали ей преж незнающие люди нашатырь в глаза…»83.
Хирургическая помощь получила довольно широкое распространение, особенно в связи с необходимостью оказывать помощь раненым во время военных действий.
В XVII в. появились сведения о челюстно-лицевых ранениях военного времени. В Аптекарский приказ направлялись списки пострадавших с указанием характера ранения, вида оружия, которым оно было нанесено. Об уровне постановки диагноза свидетельствуют многие примеры из врачебной практики (1645): «Драгун Фетюшка Денисов ранен в левую бровь, а пулька в нем», «Карп Нагибин ранен в правую щоку из ружья», «Мишка Иванов сечен саблею по шее», «Гришка Афанасьев ранен саблею, отрублен нос и верхние губы и зубы передние... рана тяжела», «Ивашка Андронов ранен в голову: пушечным ядром переломило висок левой в трех местах. Раны тяжелы», «Алешка Федотов ранен: опалило лицо из пушки и нос сшибло»84. В некоторых «сказках» (историях болезни) даются прогнозы заболевания, и не всегда оптимистичные: «…А лечить его не мочно, потому что болезнь у него застарела». В «сказке» об осмотре стрельца Андрея Самарина сказано, что он болен «цинготной болезнью», «а излечить его, Андрея, от тех болезней мочно в 4 или 5 недель»85 (то есть представлен прогноз о трудоспособности человека).
Для лечения больных применяли лекарственные средства растительного (шиповник, зверобой, валериана, петрушка, мак, мята, и др.), животного (жир, печень и др.) и минерального (агат, аметист, глина, соль и др.) происхождения. Важнейшим источником для получения лечебных трав в Москве были аптекарские сады и огороды (у Каменного моста, в Немецкой слободе, у Мясницких ворот и др.). В середине XVII в. сбор трав стал особой повинностью, которую обязаны были выполнять не только посадские люди, но и стрельцы. Помимо применения трав и лекарственных веществ, использовались и другие способы лечения: компрессы, банки, кровопускание.
Весьма важным как лечебным, так санитарным средством были русские бани. В банях для высших классов полы усыпали цветами и зеленью, в воду клали различные травы. В документах Аптекарского приказа сохранилась опись медицинских инструментов за 1692 г., по которой можно судить о характере хирургических операций: «ланцеты кровопущаные», клещи, «снасти, что в ранах осматривают», «шильца треугольные», буравы, «снасть костоправная с веревками», «клещи родильные», «ножницы двойные, что раны разрезывают», «пилы, что зубы трут». Основными проблемами медицины того времени являлись распознавание болезни (диагностика), ее лечение, определение исхода (прогностика).
В 1653 г. при Стрелецком приказе была открыта школа костоправов, а в 1654 г. при Аптекарском приказе – первая школа русских лекарей. Таким образом, начиная с XVII столетия в Московском государстве стали готовить первых русских военных и гражданских врачей со специальным образованием. Обучение длилось от 2,5 до 7, а то и до 11 лет. Пройдя 2,5 года обучения, учащийся получал звание подлекаря и направлялся на службу в войска. Преподавание в Лекарской школе было наглядным, поскольку велось у постели больных и носило практический характер. Анатомию изучали по костным препаратам. Преподавали как врачи-иностранцы, так и опытные русские лекари.
В начале XV в. игумен Белозерского монастыря Кирилл перевел с латинского на русский язык комментарии Галена на сочинения Гиппократа под названием «Галиново на Ипократа». В XVI–XVII вв. широкое распространение получили рукописные книги медицинского содержания: травники, лечебники, «вертограды», «аптеки». До нашего времени сохранилось более 200 русских медицинских книг. Некоторые из них были переводами древних медицинских сочинений Гиппократа, Аристотеля, Галена.
Переведенный в 1657 г. на русский язык труд А. Везалия «Эпитоме» стал первой в России научной книгой по анатомии.
Первый временный военный госпиталь был организован на территории Троице-Сергиевой лавры в период польско-литовской интервенции и осады этого монастыря (1611–1612). В госпитале оказывали медицинскую помощь не только раненым, но и заболевшим цингой, дизентерией гражданским лицам, укрывшимся от врагов за стенами лавры. Второй временный госпиталь был открыт в Смоленске в 1656 г., во время войны России с Польшей, третий – в 1678 г. на Рязанском подворье в Москве в период войны с Турцией и Крымским ханством. В армии не раз случались массовые заболевания цингой. В связи с этим в специальной царской грамоте, направленной в 1672 г. князю А.А. Голицину в Казань, предлагалось «...изготовить двести ведер сосновых вершин намоча в вине, да в Нижнем Новгороде изготовить сто ведер, и послать то вино в Астрахань и давать то вино в Астрахани служилым людям от цинги»86. В военных гарнизонах раздавали всем чинам по мере надобности противоцинготные средства (солод, пиво, винный уксус, сбитень). Лечение «ратных людей» проводилось безвозмездно, а с остальных взималась плата.
Характерная особенность отечественной медицины XVII в. – государственный характер временных военных госпиталей. Иными словами, содержание раненых, врачебное обслуживание в госпиталях осуществлялось за счет государственных средств. Раненым воинам нередко выдавали деньги на «лечбу ран». Военных врачей в то время не было.
В 1653 г. при Троице-Сергиевом монастыре были построены двух- этажные больничные палаты, а в 1656 г. в Москве на средства боярина Ф.М. Ртищева сооружена небольшая гражданская больница из двух палат.
В 1682 г. был издан указ «построить в Москве две шпитальни, или богадельни, для призрения убогих». Одну из этих больниц предполагалось использовать как медицинскую школу («Чтобы в больнице и больных бы лечили, и лекарей бы учили»). Но в отличие от схоластического обучения, практиковавшегося в западноевропейских университетах, в Московском государстве зарождается клинический метод обучения, основанный на практическом опыте наблюдений за больными.
Мероприятия по подготовке врачебных кадров дали возможность уже в XVII в. иметь значительное число лекарей, обучавшихся в Москве, а также докторов медицины, получивших образование и ученую степень в заграничных университетах. В числе выдающихся врачей того времени были первые доктора медицины: Георгий Дрогобыч (ок. 1450–1494) – врач, философ, астролог; Георгий Скорина (1490–1535) – выдающийся белорусский первопечатник и просветитель (в 1515 г. перевел на церковно-славянский язык Псалтырь, а в 1517–1519 гг. – Библию); Петр Постников (1666–1702), который, получив в Падуанском университете степень доктора медицины, вернулся на родину, занимался исследованиями, проводил опыты на живых собаках и др.
Таким образом, на Руси ХVI–ХVII вв. были временем становления аптечного дела, открытия первых больниц в городах, начала подготовки врачей из числа природных россиян, зарождения государственной организации медицинского дела в стране.
Все эти меры подготовили почву для развития медицины в России ХVIII в.
76 Высоцкий Н.Ф. Очерки нашей народной медицины. - 2-е изд., репр. - М. : URSS, 2011. - 168 с.
77 Гудзий Н.К. История древней русской литературы. - 8-е изд. - М. : Аспект Пресс, 2003. - С. 142-144.
78 Марчукова С.М. Медицина в зеркале истории. - СПб. : Европейский Дом, 2003. - 272 с.
79 Материалы для истории медицины в России. - СПб., 1883. - Вып. 2. - С. 450.
80 Документы Аптекарского приказа хранятся в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА, фонд 143).
81 Новомбергский Н.Я. Черты врачебной практики в Московской Руси (культурно-исторический очерк). - СПб. : Типография Министерства внутренних дел, 1904. - С. 32.
82 Лохтева Г.Н. Материалы Аптекарского приказа – важнейший источник по истории медицины XVII в. // Естественнонаучные знания в Древней Руси. - М. : Наука, 1980. - Вып. 2. - С. 147.
83 Материалы по истории медицины в России. - СПб., 1885. - Вып. IV. - С. 918.
84 Материалы по истории медицины в России. - СПб., 1885. - Вып. IV. - С. 874.
85 Лохтева Г.Н. Материалы Аптекарского приказа - важнейший источник по истории медицины в России XVII в. // Естественнонаучные знания в Древней Руси. - М. : Наука, 1980. - Вып. 2.- С. 147.
86 Материалы для истории медицины в России. - СПб., 1883. - Вып. II. - С. 457.
Дополнительные материалы к лекции
-
Видео материалы
Россия на рубеже 16 -17 веков, "Смутное время"
Лектор: ст. преподаватель А.Б.Дубовицкий
1чаc 14минут
Как Русь стала православной державой? • Видеоистория русской культуры. Серия 2Научный руководитель проекта профессор Оксфорда и Шанинки Андрей Зорин
5 минут
- Основные учебники
- Дополнительная литература по теме
-
Полезные ресурсы
museum.historymed.ru — сайт Музея истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова
www.historymed.ru/great-doctors/ — Русские врачи, изменившие мир
www.historymed.ru/medics/ — Портретная галерея выдающихся деятелей медицины
www.historymed.ru/specproject/100years/ — 100 лет Главному управлению государственного здравоохранения России
roim.historymed.ru — Сайт Российского общества историков медицины
www.historymedjournal.com — Научно-практический журнал История медицины